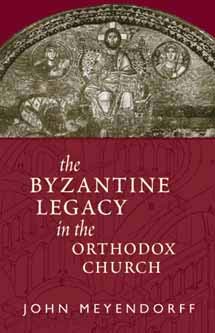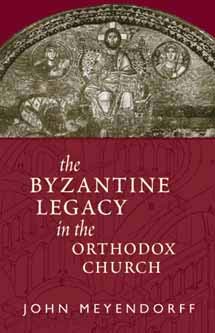
ЦЕРКОВНЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ:
структуры общения или прикрытие для сепаратизма?
Мейендорф Иоанн, протопр. / Rev. John Meyendorff
Статья впервые была представлена на коллоквиуме
"Экклезиология Второго Ватиканского собора: динамика и
перспективы", проходившем в Instituto per le scienze
religiose, Болонья, Италия, 8-12 апреля 1980 г., с
подзаголовком: "Проблемы диалога с римо-
католичеством"; опубликована в: St. Vladimir's Theological
Quarterly 24 (1980), pp. 155-168.
При обсуждении экклезиологических вопросов всегда
преследует сильное искушение манипулировать
понятиями и догматическими определениями без всякого
критического подхода к их применению на практике.
Скажем, православный богослов легко может изложить
экклезиологию св. Игнатия Антиохийского и построить на
ней апологию современной православной позиции
относительно римского первенства. Но гораздо труднее
проанализировать церковные учреждения, как они
развивались на Востоке и Западе, с точки зрения их жизненной роли в сохранении веры, в
пастырстве над верными и исполнении миссии Церкви в мире. Во все времена учреждения,
предназначенные выражать сущность и миссию Церкви, склонны были развиваться вне
зависимости от экклезиологии и по своей внутренней логике. В своем развитии они были
обусловлены не только тем, что мы сегодня называем "евхаристической экклезиологией"
раннего периода, но и практическими требованиями своего времени, так что их
первоначальный смысл позднее стал почти неузнаваем. Некоторые из аспектов этого
развития могут иногда представляться как неизбежными, так и желательными, поскольку
они могли быть откликами на конкретные нужды христианской миссии в истории. Но в
таком случае сам диалог о христианском единстве должен учитывать историю; он должен
интересоваться не только содержанием христианской веры и обоснованностью
христианских учреждений, но и их действенностью в настоящем и будущем.
Таким образом, все измерения христианской веры неизбежно вовлекаются в диалог о
единстве: не есть ли событие Иисуса – событие hapax [единственное], которое судит
историю? Является ли опыт апостолов – опыт изначального свидетельства об Иисусе –
постоянным и неизменным образцом церковных учреждений? Или некоторые учреждения
– всего лишь продукт последующей истории и потому законным образом подлежат
изменениям? Являются ли они, говоря иначе, стражами реальности, превосходящей
историю, или отражением самой истории?
Большинство христиан – в частности, христиан, участвующих в экуменическом движении –
согласятся, что эти вопросы в такой формулировке законны, что это основные вопросы и
что особенно они уместны в области экклезиологии. В их рассмотрении православные и
католики обычно готовы долго идти вместе. И те, и другие согласны, что апостольская
керигма подразумевает основные сакраментальные и церковные структуры, присущие
самой природе Церкви. Это, действительно, отправная точка нашего диалога, которая на
Втором Ватиканском соборе получила широкую разработку с новым для римско-
католической экклезиологии акцентом на значении поместной церкви и соборности. В
каждой евхаристической общине, провозглашает конституция "О Церкви", "присутствует
Христос, силою Которого объединяется Единая, Святая, Кафолическая и Апостольская
Церковь" (III, 26).[1] Хотя епископская соборность, как она формально и точно определена
в той же конституции собора, зависит от общения с Римом и папской plena potestas
[полноты власти] – аспект, составляющий главную проблему для православных, – налицо
новая готовность со стороны Рима признать такую категорию экклезиологического
мышления, как понятие "церквей-сестер". Этот термин был употреблен в переписке с
Константинополем, и многочисленные встречи между папами и патриархами приняли
процедуру, указывающую на определенное равенство функций, а не на папскую монархию.
Отсюда ясно, что вопрос о регионализме – не только в смысле сакраментальной реальности
"поместной церкви", возглавляемой епископом, но и в смысле региональных архиепископий
и синодов – стоит на повестке дня современных экуменических дискуссий. Этот же вопрос
явно имеет центральное значение в терминах внутренней структуры Римско-Католической
Церкви (например, власть национальных и региональных синодов по отношению к Риму) и
Православной Церкви, которая сегодня утверждается на достаточно свободном общении
независимых "автокефальных" церквей. Но обсуждение этих вопросов включает не только
отвлеченные проблемы экклезиологии, но и проблемы практического управления,
проблемы освященных веками обычаев и умонастроений и меняющихся условий
современного мира. Эти исторические реалии существовали в прошлом, как они
существуют и сегодня. Есть мнение, что они оправдывают реалистический подход к
экклезиологии. В самом деле, если церковные учреждения можно свести к относительным
историческим явлениям, христианское единство, говорят нам, нужно понимать скорее как
"духовное" содружество с минимумом институциональной координации. Для оправдания
экклезиологического релятивизма как приемлемой экуменической методологии
применяется и герменевтический подход к Новому Завету, подчеркивающий
институциональный и богословский плюрализм в раннехристианских общинах.
Если, однако, не принимать такой подход и считать, вместе с католиками и православными,
что сакраментальная природа христианской экклезиологии подразумевает данную и
неизменную структуру, отражающую жизнь в таинствах, то и к историческому развитию
тогда следует подходить критически и искать христианское единство в согласии с тем, что
есть изначальная и неизменная данность. Но и в этом случае мы не имеем права
отбрасывать историческое развитие как таковое или отрицать, что церковные учреждения
могут быть оправданы в своем приспосабливании к конкретным историческим
требованиям.
Так, историки и богословы часто признают, что римское первенство достигло своего
нынешнего уровня развития не на одних только богословских и экклезиологических
основаниях. Исторические – а значит, относительные – факторы также сыграли в этом
развитии свою роль. Восприятие Римской Церковью имперской римской идеи на Западе,
политика итальянского двора в течение Средних веков и Ренессанса, Контрреформация,
современный вызов секуляризма и многие другие факторы повлияли не только на
учреждение папства, но и на некоторые выражающие его догматические формулировки.
Проблема заключается в установлении, оправданным было это развитие или нет.
Однако в настоящей статье я хочу заняться не критикой западных институциональных
изменений, но регионализмом в Православии, который так часто противопоставляется
римскому универсализму. Поскольку Восток всегда с большей, чем Запад, неохотой
формулировал свои взгляды в виде официальных догматических определений, я полагаю,
что православный богослов сегодня пользуется полной свободой критического подхода к
этому аспекту прошлого и настоящего своей церкви. Лично я сожалею, что этой свободой
пользуются так мало, и убежден, что пока православные не научатся обоснованной
самокритике, их притязание на хранение апостольской истины останется в современном
экуменическом диалоге бесплодным.
1. Региональные структуры в истории
Нет необходимости подробно излагать происхождение и экклезиологические основания
региональных епископских синодов. По "Апостольскому преданию" Ипполита (I, 2),
рукоположение нового епископа требует присутствия нескольких епископов для
возложения рук. Кроме того, значение регулярных епископских синодов в каждой
области[2] хорошо засвидетельствовано в III столетии Киприаном. Особая роль такого
синода состояла в хранении православного учения и дисциплинарного единства. Нет
сомнений в том, что в то время Церковь уже столкнулась с проблемой возможного
конфликта между заботой об универсальном единстве и убеждением, которое часто
выражали отдельные епископы в своих поместных церквях и епископы областей на своих
соборах, что за истину они в ответе только перед Богом, а не перед какими-либо
учреждениями, внешними по отношению к их региону. С другой стороны, такие лица, как
Ириней, Тертуллиан и Киприан, сознавали единство мирового епископата в исповедании
единой христианской веры. Единство, включавшее, по крайней мере на Западе, особое
уважение к "апостольским" кафедрам, рассматривалось как главное свидетельство истины
кафолического христианства (в противовес гностицизму). Но в то же время ни один из
областных епископских соборов – и в первую очередь это касается соборов, регулярно
собиравшихся в Карфагене, – не готов был легко отказаться от своих убеждений и признать
внешний авторитет в области вероучения. Вопрос о крещении еретиков и позднее дело
пресвитера Апиария, низложенного в Карфагене, но принятого в общение в Риме –
классические примеры этого областного – или регионального – самосознания, которое
сопротивлялось зарождавшемуся римскому централизму.
Правомочность областных соборов в пределах региона была формально утверждена в IV
столетии. Правила Никейского собора (4-е и 5-е) давали им высшую власть в назначении
епископов, создании "митрополичьих округов" – зародышей того церковного устройства,
которое даст в последующие столетия многочисленные разновидности. Первоначально
епископский собор отражал экклезиологическую необходимость: он был "церковным" по
природе. Однако принятый в Никее принцип – что церковная организация должна
совпадать с административным делением империи ("областями", или "провинциями") –
означал начало секуляризации. Конечно, Церковь не могла избежать необходимых
практических требований своей новой ситуации (и новой миссии) в империи, но тенденция
к постепенному отождествлению церковного и имперского управления вела к смешению
старых экклезиологических критериев с правовыми схемами, преобладавшими в
государстве.
Следующий шаг в этом процессе состоял в учреждении группы из нескольких областей,
совпадающих со следующей по крупности имперской административной единицей,
называемой "диоцез" (см., в частности, 2-е правило I Константинопольского собора, 381 г.).
Главные епископы таких больших групп носили даже поначалу чисто гражданский титул
"экзарха" (см. "экзарх диоцеза" в 9-м и 17-м правилах Халкидонского собора, 451 г.),
который впоследствии, в течение всего византийского периода, продолжал обозначать
некие высокие церковные должности, равно как и чин имперских администраторов. Однако
для главных престолов Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима
(которые затем составили знаменитую "пентархию"), так же как и для новообразованных
патриархатов Грузии, Болгарии, Сербии и Руси, был в конечном счете избран библейский
титул "патриарха".
Экклезиологически это развитие было оправдано той же самой логикой, которая
первоначально привела к областным епископским синодам. Совершенная целостность и
кафоличность каждой поместной церкви требовала общения со всеми церквами.
Первоначально такое общение между соседними церквами обычно осуществлялось в
рамках наличных политических структур. Эта каноническая структуризация предназначена
была служить единству, а не создавать разделения. И кроме того, если во времена Иринея,
Тертуллиана и Киприана всеобщее единство Церкви понималось как единство в общей,
восходящей к апостолам вере – причем так называемые "апостольские" церкви
пользовались особой степенью подлинности и авторитета, – то теперь это единство еще и
практически обеспечивалось имперскими службами: император выступал в роли
ответственного за созыв вселенских соборов и обеспечивал законное проведение в жизнь
его постановлений.
Покойный Фрэнсис Дворник ясно описал постепенно нараставший между Востоком и
Западом контраст в истолковании значения региональных первенствующих кафедр.[3] На
Востоке власть главных кафедр, или патриархатов, понималась прагматически – как
выражение престижа городов, вокруг которых поместные церкви собирались вполне
естественно и чье первенство, вначале воспринимаемое как нечто само собой
разумеющееся, позднее было официально узаконено на соборах. Так, Константинополь
своим возвышением обязан был тому факту, что он стал новой столицей империи. Между
тем на Западе ранний крах имперского управления и тот факт, что Рим был единственной
"апостольской" кафедрой, привели к развитию папского первенства, которое притязало на
божественное происхождение и часто служило здравым, уравновешивающим фактором по
отношению к светским и цезарепапистским тенденциям в Византии.
Интересно, что падение Византийской империи в позднем Средневековье привело к
возникновению подобного "феномена первенства" на Востоке. Поскольку императоры
периода Палеологов, осажденные в своей столице подступавшими турками, не состоянии
были выполнять объединяющую роль в христианском мире, как это делали их
предшественники, константинопольский патриарх стал гораздо более открыто выражать
свое притязание на всеобщее руководство. Действительно, он считал свое положение
подобным положению папы Григория Великого в VII столетии. Идея христианской
империи свелась к простому символу. Церковь была предоставлена самой себе и должна
была самостоятельно нести свое универсальное свидетельство в мире, поделенном между
разными "варварскими" государствами или центрами власти. Таким образом,
константинопольские патриархи действовали во многом подобно папам периода
варварских нашествий. Достаточно привести лишь один пример. Патриарх Филофей
Коккин в 1370 г. в письме к русским князьям, которые отказывались подчиняться политике
патриаршего управления на Руси, определяет свою позицию и авторитет на языке, который
выходит за пределы идеи первенства у ранних пап и который мог употребить Григорий VII
(или Пий XII). Фактически он подразумевает некое "универсальное епископство" патриарха:
Ибо так как Бог поставил нашу мерность предстоятелем всех, по всей вселенной
находящихся христиан, попечителем и блюстителем их душ, то все зависят от меня (pantes
eis eme anakeintai) как общего отца и учителя. И если бы мне можно было самому лично
обходить все находящиеся на земле города и веси и проповедовать в них слово Божие, то я
неупустительно делал бы это как свое дело. Но поелику одному немощному и слабому
человеку невозможно обходить всю вселенную, то мерность наша избирает лучших и
отличающихся добродетелью лиц, поставляет и рукополагает их пастырями, учителями и
архиереями, и посылает в разные части вселенной: одного – туда, в вашу великую и
многолюдную страну, другого – в другую часть земли, повсюду – особого [архипастыря], так
что каждый в той стране и местности, которая дана ему в жребий, представляет лицо,
кафедру и все права нашей мерности.[4]
В то время, когда Филофей выражал эти притязания, никто прямо не оспаривал их.
Напротив, руководство могущественных "исихастских" патриархов XIV века оказывало
устойчивое влияние повсюду в православном мире в течение темных столетий
оттоманского правления на Балканах и Ближнем Востоке. На православном Востоке
явственно ощущалась нужда во всеобщем руководстве, и незаурядные фигуры некоторых
патриархов вроде Филофея осуществляли его. Но это руководство не получило никакого
экклезиологического обоснования или канонического оформления. Канонические
определения прав Константинополя (особенно правила I Константинопольского,
Халкидонского и Пято-Шестого соборов) имели явно ограниченную сферу применения и,
безусловно, не могли служить оправданием взгляда на всеобщий авторитет, выраженного
патриархом Филофеем. В результате попытка восточного "папизма" провалилась, и на
Востоке в конце концов возобладал институциональный регионализм.
Нет необходимости обсуждать здесь происхождение и развитие "национальных" церквей в
средневековый период. По крайней мере с V века вне границ империи существовали
независимые церкви, во главе которых стояли предстоятели, часто носившие титул
католикоса.[5] Очень рано идентичность этих церквей определялась по культурным и
этническим признакам. С другой стороны, славянские церкви Болгарии и Сербии добились
для своих глав титула патриарха. Хотя первоначально идеология Болгарского и Сербского
государств была византийской – почему они и признавали принцип единой всемирной
христианской империи с центром в Константинополе, – тот факт, что их правители не
смогли добиться для себя имперского престола, привел на практике к созданию
региональных монархий и региональных патриархатов. Нет никаких канонических
препятствий для существования этого плюрализма патриархатов. Напротив, древние
правила Никеи и последующих соборов продолжали оставаться основой православного
канонического права, а эти древние правила утверждали церковный регионализм в рамках
всеобщего единства веры, обеспечиваемого соборами. Действительно, это единство в вере
оставалось вполне действенным и допускало иногда возникновение и всеобщего
руководства, как это произошло в случае Филофея Коккина; но в институциональном и
структурном отношении преобладал регионализм.
Однако с возникновением современного национализма характер и значение регионализма
претерпели существенные перемены.
2. Национализм как разделяющая сила
В наше время всемирная Православная Церковь представляет собой свободное содружество
совершенно независимых автокефальных церквей, объединенных верой и общим
каноническим преданием. Формально можно утверждать, что эта ситуация соответствует
раннехристианскому каноническому устройству. Правила Никейского собора определяют
избрание епископов синодами каждой области (4-е и 5-е правила) и не знают никакой
формальной власти над епископом областной столицы, или "митрополитом". Правда, Никея
также признавала de facto традиционную власть некоторых церквей – Александрийской,
Антиохийской, Римской (см. 6-е правило) – над более широкой территорией, но
полномочия этой власти не были вполне точны и всегда четко ограничивались
территориально. Византийский канонист Вальсамон (XII в.) в комментарии ко 2-му правилу
Константинопольского собора справедливо писал, что "прежде все главы областей были
автокефальными и избирались своими синодами".[6] Однако этот древний регионализм
был предназначен только для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование
областных синодов. Он также подразумевал всеобщее единство и взаимодействие между
епископами, которому областные "автокефалии" никогда не должны были служить
препятствием. Нет ничего более чуждого структуре ранней церкви, чем некоторые
современные интерпретации автокефалии, согласно которым "в сфере международных
отношений каждая автокефальная церковь есть полномочный и равный субъект
международного права".[7]
Очевидным образом современный национализм повлиял на преобразование законного
церковного регионализма в прикрытие для сепаратизма.
Историку не составляет труда указать, где и как имело место это преобразование. Оно
явилось прямым следствием бурного оживления народностей, начавшегося в Западной
Европе во второй половине восемнадцатого века и определившего всю историю века
девятнадцатого. Новые националистические идеологии сделали нацию, понимаемую в
смысле языка и расы, объектом основных социальных и культурных проявлений верности.
Определяющим фактором человеческой жизни стал уже не всеобщий христианский мир,
как это понималось в Средние века, и, конечно же, не евхаристическая община, созидаемая
новым рождением в крещении, как требует христианское Благовестие, а нация.
Подразумевалось также, что каждая нация имеет право на отдельную государственность,
так что старые европейские империи, неполноценные пережитки римского или
византийского универсализма, рассыпались одна за другой.
В Греции и других балканских странах – Болгарии, Сербии и Румынии – главным
инициатором национализма явилась воспитанная в западном духе и ориентированная на
Запад светская интеллигенция, которая не была заинтересована в Православии и Церкви,
разве что как в полезном орудии достижения светских националистических целей. Когда
подняли голову различные националистические движения, церковное руководство
выражало скепсис и инстинктивное опасение перед новым светским и несущим разделение
духом, сменившим прежнее единство христиан в Оттоманской империи. Но Церкви явно не
доставало интеллектуальной силы, богословской проницательности и институциональных
структур, которые могли бы изгнать демонов националистической революции. С другой
стороны, для Церкви не было смысла поддерживать status quo, означавший продолжение
ненавистного турецкого или австрийского правления над православными народами на
Балканах. Поэтому патриархи, епископы и приходское духовенство – где с воодушевлением,
где с неохотой – присоединялись к стремительному националистическому движению,
становясь непосредственными участниками его политического успеха, но также, что более
опасно, принимая его идеологию.
Прямым результатом этого стало разделение. Действительно, если греческий национализм
восстал против турецкой власти, то болгарский национализм не мог терпеть преобладания
греков в Церкви. Подобным образом в империи Габсбургов венгры восстали против
австрийцев, но сербы возмущались господством венгров – и так далее. Румыны
противостали каноническому первенству сербского патриархата в Карловцах. Так
национализм прорвался среди всех православных национальностей, будучи направлен не
только против мусульманских и католических (Австрия или Венгрия) повелителей, но и
против своих же православных братьев. А поскольку политическая цель всех национальных
движений состояла в создании национальных государств, которые рассматривались как
высшая ступень культурного развития, идея "автокефалии" стала церковным эквивалентом
нации: каждая нация должна учредить собственную автокефальную церковь. Вселенский
Константинопольский патриархат противодействовал этой тенденции, но безуспешно,
отчасти потому, что сам превратился в символ, а иногда и в орудие греческого
национализма, который, как и всякий национализм, неизбежно слеп и глух к другим
национальным движениям и потому не в силах разорвать порочный круг этнической
борьбы.[8]
Таким образом, законный и канонический регионализм, утвержденный канонами ранней
Церкви, превратился в современном Православии в сеющий разделения национализм.
Я уже отмечал, что православные церковные власти, в общем, не осознавали опасности
этого развития и на практике нередко становились главными выразителями
националистической идеологии. Но существует счастливое и очень важное исключение:
собор 1872 г. в Константинополе по случаю так называемой "болгарской схизмы". Я не хочу
обсуждать здесь скорее лицемерный характер постановления, осуждающего болгар, как если
бы они одни были виновны в церковном национализме, но сам текст ясно формулирует
экклезиологические положения общего типа и первостепенной важности для современного
Православия. Он осуждает ересь "филетизма" (fyletismos) которая определяется как
"учреждение отдельных церквей, признающих членов одной национальности и
управляемых пастырями той же национальности и отвергающих членов других
национальностей" и как "сосуществование церквей, определенных по признаку
национальности, церквей одной и той же веры, но независимых друг от друга, на одной и
той же территории, в одном и том же городе и селе".[9] Экклезиологически постановление
подразумевает, что Церковь не может принимать в качестве критерия своей структуры и
организации несущие рознь реальности падшего мира (в том числе национализм); что как
евхаристическая община Церковь призвана преодолевать разделения и воссоединять
обособленное. В самой своей структуре она должна свидетельствовать о Христовой победе
над миром.
Ничтожные по своим практическим следствиям (если о таковых вообще можно говорить!),
решения 1872 г. очень удачно засвидетельствовали о сильном остаточном
экклезиологическом сознании, без которого Православная Церковь не могла бы уже
называться православной.
Рассматривая сеющий разделения национализм, я сосредоточился на одних только
балканских православных церквях, не упомянув самую большую национальную
православную церковь – Русскую. Историческая судьба этой церкви была весьма отлична от
судьбы балканских церквей, но итог в отношении занимающего нас вопроса тот же.
Универсалистская имперская идеология, унаследованная Москвой от Византии, в XVI, XVII
и XVIII вв. становилась все более национальной и светской; этот процесс прекрасно описал
покойный о. Георгий Флоровский.[10] Самое существенное отличие и, пожалуй,
преимущество Русской Церкви в смысле сохранения "кафолического" и потому
наднационального сознания заключалось в возможности постоянной миссионерской
деятельности, чем подкреплялась определенная практика (а не один лишь принцип)
христианской всеобщности. Кроме того, появление в России в XIX
в. критических
исследований и в более недавнее время церковной интеллигенции (ярким представителем
которой был тот же Флоровский) создало почву для самооценки и самокритики. Но эти
факторы все еще остаются слишком слабыми на фоне преобладающего церковного
национализма на практике и в сознании многих православных.
3. Вопросы для диалога
Метаморфоза регионализма в национализм в современном Православии требует
критической оценки на основе того, что Православие заявляет в качестве своей
экклезиологической позиции. Такая оценка составляет предпосылку для диалога с Римом,
который также пытается переосмыслить свою церковную praxis в свете своей
экклезиологии.
В самом деле, невозможно отрицать, что первенство римского епископа, как оно
засвидетельствовано раннехристианскими авторами и практикой ранней Церкви, также
претерпело метаморфозу. Заполнив сначала политическую и культурную пустоту,
образовавшуюся после падения западной империи, позднее борясь за духовное
превосходство и политическую независимость против германских императоров, епископ
Рима стал "верховным понтификом", обладавшим светской властью универсального
размаха. Позже, когда он почти утратил то политическое признание, которого достиг в
Средневековье, папская пастырская и вероучительная власть была определена в терминах,
заимствованных из средневекового юридического словаря (plena potestas). В этой новой
форме папство сыграло важную роль в формировании духовного характера христианства на
Западе. Толкуемое одними как необходимое и поистине богоустановленное основание
сохранности догматических истин, церковной дисциплины и последовательного
пастырского руководства, оно рассматривается другими как антихристианский заменитель
Христа или, во всяком случае, как главное препятствие для человеческой свободы и личной
ответственности.
Диалог между Католичеством и Православием необходимым образом включает проблему
"регионализм versus универсализм". Обе стороны согласны, что и то, и другое всегда
составляли существенные аспекты христианского свидетельства и христианского единства и
остаются важными и сегодня. Если бы каждая из сторон согласилась на некоторую долю
самокритики и признала бы, что восточный регионализм и западный универсализм часто в
прошлом принимали формы, экклезиологически и этнически неоправданные, искать
истинное решение стало бы легче.
Но, как мы выяснили в совместных исследованиях относительных и изменчивых
реальностей в истории, встает еще один основной богословский вопрос – вопрос о роли
Святого Духа в истории, т. е. проблема продолжающегося откровения, или догматического
развития. Действительно, легко согласиться с тем, что формы и структуры Церкви могут и
должны приспосабливаться к меняющимся условиям истории. Мы уже упоминали широкое
признание имперских политических структур как de facto критериев церковной
организации на Востоке, а также почти "папистское" самоутверждение восточных
первоиерархов как в Византии, так и позже на Руси во времена, когда Церковь должна была
нести свое свидетельство в условиях политического хаоса и разделений. Следовательно, мы
вправе поставить вопрос: нельзя ли объяснить и оправдать подобное развитие на Западе –
хотя и гораздо более длительное и последовательное, – приведшее римского епископа к
принятию на себя универсального руководства, в том же самом смысле – как законный
отклик Церкви на конкретное требование истории? А если так, то не Святой ли Дух
наставлял Римскую Церковь на этом пути?
Конечно, вопрос о догматическом развитии, особенно в его приложении к церковным
учреждениям, возник со времен Ньюмена, но сегодня он очевидным образом включает еще
более обширные проблемы принятия столь многими "процессуального" подхода к
богословию. В самом деле, перемены признаются верным знаком истины и подлинным
фактором откровения. В области экклезиологии этот подход, безусловно, способен
объяснить возникновение такого учреждения, как папство, но он также способен
практически свести его на нет указанием на продолжающиеся и необходимые перемены в
настоящем и будущем.
Говоря обобщенно, православный подход к экклезиологии вряд ли совместим с
"процессуальным" методом, который, кажется, упускает из виду историческую
уникальность (hapax) события Христа и, следовательно, полноту апостольского
свидетельства, навсегда запечатленную в Новом Завете и сохраненную в Апостольской
Церкви. Не отвергая идеи развития, православное богословие говорит о нем в смысле
новизны формулировок, но не содержания. Поэтому любая историческая перемена должна
оцениваться с точки зрения ее соответствия апостольскому свидетельству и Преданию и
лишь во вторую очередь – с точки зрения уместности по отношению к нуждам того
исторического момента, в который она происходит. Однако остается опасность легкого
превращения этой сосредоточенности православных на непрерывности Предания в
застывший консерватизм, доходящий почти до нелепости. Более того, слепой страх перед
любыми переменами постепенно приводит к сектантству. В противоположность сектам,
"кафолическое" христианство остается и верным depositum fidei [сокровищу (или хранимому
залогу) веры], и открытым к реальностям истории...
Итак, представляется, что если диалог между православными и католиками обращается к
вопросу о догматическом развитии, он должен – особенно в области экклезиологии –
заново открыть свой антиномический и в высшей степени мистический характер:
антиномия между божественным откровением и человеческим восприятием, между
благодатью и свободой, между универсальным и местным. Главное открытие, которое тут
можно сделать, состоит в том, что антиномия – которая всегда есть вызов логическому и
юридическому мышлению – в действительности является не формой агностицизма, но
освобождающим созерцанием божественной истины, открытой в разделяемом всеми sensus
ecclesiae [чувстве (сознании) Церкви].
Говоря конкретнее, православные не имеют никакого права отрицать римское первенство
только на основании этнического провинциализма своих национальных автокефальных
церквей, как они существуют сегодня. Несомненно, что такие церкви – прикрытие для
сепаратизма. Более того, православным необходимо признать, что если региональные
союзы поместных церквей реализуются через институциональное взаимодействие
(региональные синоды), то и универсальное единство Церкви может принять
институциональную форму, предполагающую определенные средства взаимодействия и
некоторую форму первенства, образцы которых существовали в апостольской общине и
среди поместных церквей раннего христианства.
Если, благодатью Божией, объединяющий собор когда-либо соберется, ему придется
поставить на повестку дня вопрос об "автокефалии" – как она практикуется сегодня
Православной Церковью – и, безусловно, вопрос о римском первенстве. Эти вопросы
должны получить богословское рассмотрение не только с точки зрения смысла
новозаветного откровения, но и в отношении вопроса о "догматическом развитии".
Православная сторона, несомненно, будет пытаться истолковать это развитие
исключительно в терминах ius ecclesiasticum [церковного права], но также должна будет
сформулировать способы, которыми всеобщий характер христианского Благовестия может
утверждаться на постоянной основе и в институциональной форме, как необходимое
выражение природы Церкви.
В таком случае в спор должен будет вступить практический момент. Что происходит на
практике в западно-христианском мире, когда папское первенство отрицается или
преуменьшается в своей реальной действенности? Разве Реформация развилась из
соборности, а новый акцент на соборности на Втором Ватиканском соборе привел к
угрожающему крушению догматического учения и структур?
С другой стороны, что конкретно случилось бы в православном мире, если бы современные
автокефальные церкви признали существование реального центра власти, даже если этот
центр определить исключительно jure ecclesiastico [в рамках церковного права]?
На мой взгляд, отношения между Православием и Католичеством не продвинутся сколько-
нибудь заметно, если компетентная комиссия не попытается набросать схему, в которую
войдут вопросы, бросающие вызов каждой из сторон и испытывающие их сознание
принадлежности к Кафолической Церкви Христа. Обе стороны должны быть готовы
признать:
- что эта принадлежность полностью реализуется поместно, в Евхаристии;
- что она также подразумевает региональную (т. е. также культурную, национальную и
социальную) миссию;
- что регионализм не всегда совместим с универсализмом, который, тем не менее, также
принадлежит самой сути Христова Благовестия.
На этих трех уровнях должно возникнуть общее sensus [чувство (сознание)]. В противном
случае никакое догматическое согласие по частным богословским вопросам и никакие
символические или дипломатические жесты не способны осуществить то единство,
которого мы взыскуем.
Перевод с английского Юрия Вестеля.
Глава из книги "Византийское наследие в Православной Церкви" (готовится к изданию в
Киеве).
[1] Документы Второго Ватиканского собора, ed. W. M. Abbott, S. J. (New York, 1966), p. 50.
[2] Здесь и далее имеются в виду названия административного деления империи: область, или провинция
(eparchia, provincia); провинции объединялись в диоцез, или диэцез (dioikesis, dioecesis); диоцезы
объединялись в префектуры (прим. перев.).
[3] См., в частности, F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew
(Cambridge, Mass., 1958), и также J. Meyendorff, Orthodoxy and Catholicity (New York, 1966), pp. 49-78.
[4] Изд. F. Miklosich и J. Müller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani 1 (Vienna, 1860), p. 521 [русск. перев. под
ред. Н. Б. Артамоновой в: Прот. Иоанн Мейендорф, Византия и Московская Русь, Paris, YMCA-Press, 1990, сс.
337-338]; по этому вопросу см. также ниже, V часть, 3-ю главу, и Byzantium and the Rise of Russia (Cambridge,
1980).
[5] Армянский католикос был монофизитом. Католикос Селевкии-Ктесифон был несторианином. Но
католикос Грузии остался верным Халкидонскому собору и византийскому православию.
[6] Изд. G. A. Rhallis и M. Potles, Syntagma ton theion kai hieron kanonon 2 (Athens, 1852), p. 171. О различных
значениях термина "автокефальный", который лишь постепенно и очень недавно превратился в terminus
technicus, обозначающий административно независимую церковь, см.: Pierre L'Huillier, "Problems Concerning
Autocephaly", The Greek Orthodox Theological Review 24 (1979), pp. 166-168.
[7] С. В. Троицкий в "Журнале Московской Патриархии", 1948, N 7, с. 48.
[8] Источники и вторичная литература о балканском национализме огромны. Из книг на западных языках в
качестве имеющих отношение к церковному измерению этого кризиса можно указать: E. Picot, Les Serbes de
Hongrie: leur histoire, leurs privilèges, leur église, leur état politique et social (Prague, 1873); Stephen Ranciman, The
Great Church in Captivity: A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the
Greek War of Independence (Cambridge, 1968); K. Hitchins, Orthodoxy and Nationality: Andreiu Saguna and the
Rumanians of Transylvania, 1846-1873 (Cambridge, Mass., 1977); R. W. Seton-Watson, The Rise of Nationality in the
Balkans (New York, 1966); C. A. Frazee, The Orthodox Church and Independent Greece, 1821-1852 (Cambridge, 1969).
[9] Цит. по: Maximus of Sardis, To Oikoumenikon Patriarcheion en te Orthodoxo Ekklesia ( Thessaloniki , 1972), pp.
323-325.
[10] Особенно в книге "Пути русского богословия" (Париж, 1937).